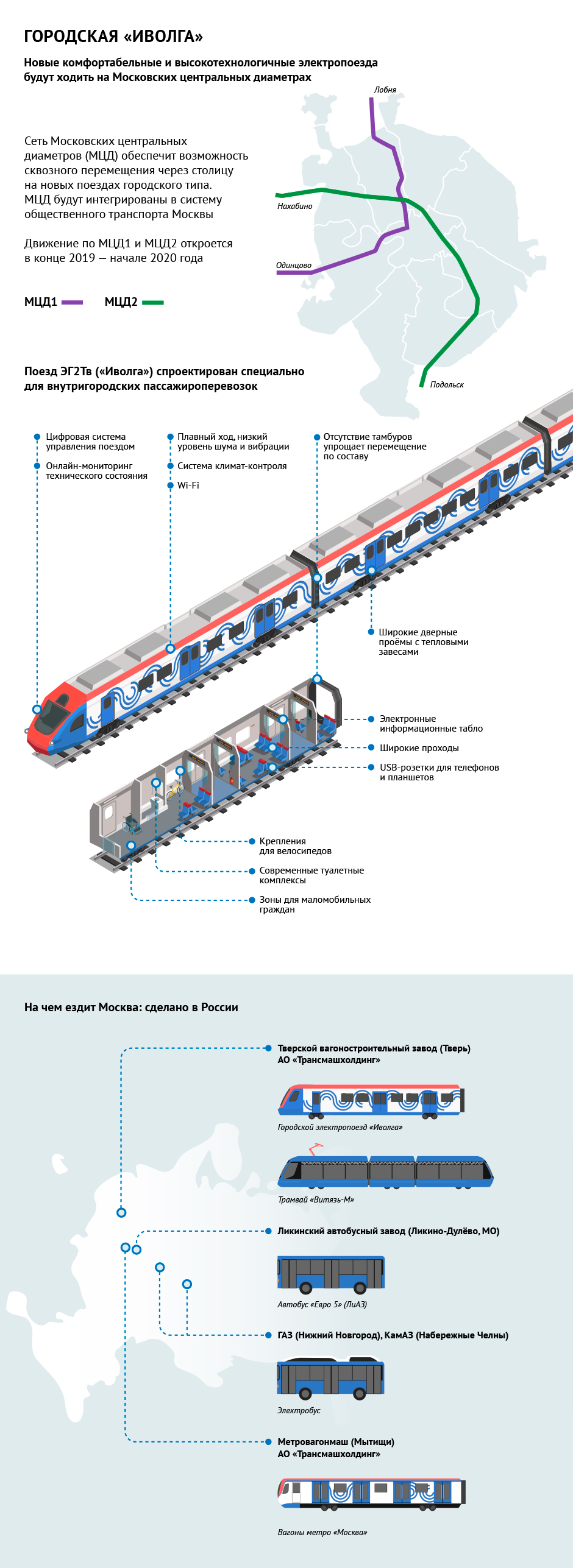Действительно ли народу России присуще консервативное мышление? Почему россияне стремятся во всем ориентироваться на примеры «великого прошлого», а не жить настоящим и не заглядывать в будущее? В том, что у них сложился такой образ мышления, виноваты большевики, или так было всегда? На эти вопросы попытались ответить участники дискуссии, прошедшей в Еврейском музее при поддержке Фонда . Дискутировали независимый политолог, журналист и публицист, поэт . В роли арбитра выступил политолог, психолог, президент фонда «Перспектива» . Выслушал и воспроизвел наиболее интересные эпизоды дискуссии специальный корреспондент .
:
За последнее столетие жизнь у нас изменилась гораздо больше, чем где бы то ни было. Даже в Германии, несмотря на две войны, жизнь сегодня гораздо больше похожа на ту, которая была у них 150 лет назад. В России все не так. Интересно, что ответственны за это не латышские стрелки, не немецкое золото, не евреи, которые, как известно, всегда во всем виноваты, а консервативные, богобоязненные, традиционалистски настроенные люди. Они перевернули страну один раз, пролив дикое количество крови, потом, через три поколения, они вновь сделали это — слава богу, малой кровью. Как это у них получается — непонятно.
Один мудрый китаец сказал: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Мы с вами живем в такую эпоху, при этом считая себя людьми консервативными, осторожными, боящимися этих самых перемен. Насколько верны эти представления, на самом деле никто не знает. У Галича, если помните, есть песня с такими словами: «А была ли действительно эта Русь на Руси?» Вот это все было или это придумали потом, как он говорил, «лишь бы в рифму да в лад»?
:
Прежде всего, я не думаю, что мы — единый народ. Во времена Советского Союза было определение: новая историческая общность людей — советский народ. С одной стороны, в ней были таджики, а с другой — эстонцы. Для меня как человека глубоко советского было шоком, когда я общался с одним молодым человеком из Эстонии, и он спокойно, с темпераментом финского парня, объяснял: «Вот, смотри, нам с тобой по 25 лет, мы платим налоги по бездетности. Эти налоги, официально, идут многодетным семьям, но ведь эти многодетные семьи живут в Таджикистане, а это значит, что я свои деньги отдаю в Таджикистан, а я эстонец, хочу, чтобы эстонских детей было больше, чтобы эти средства выплачивали эстонским семьям, чтобы у них был не один ребенок, как сейчас, а два». Мне как советскому человеку нечего было на это возразить. Я подумал тогда: насколько на самом деле мы внутри неодинаковые. Нельзя говорить о том, что мы как россияне — консервативные или мы — прогрессивные. Это не совсем понятно, потому что мы очень разные.
До определенного момента наша метрополия была европейской империей, как это ей положено, эксплуатировала периферию, чтобы концентрировать ресурсы в центре, строить Петербург, Москву, железные дороги, модернизировать страну по аналогии с Британской империей. А потом началась другая империя. Про нее Александр Пушкин писал, что правительство тут — единственный европеец. Потом появилась следующая, в которой Иосиф Сталин как раз эксплуатировал то, что называется метрополией. Во время войны и коллективизации в количественном отношении пострадали как раз российские и украинские православные пахари. Они же вытащили на своих плечах и большую часть страны, хотя периферии тоже доставалось.
В результате получилась империя, вывернутая наизнанку, очень консервативная, очень боящаяся перемен. Тогда мы превратились в азиатскую страну с азиатскими приоритетами не в географическом, а в ценностном смысле. И сейчас мы наблюдаем внутренний раскол. Москва и Питер, продвинутые европейские города, менее восторженно ведут себя в том числе и по отношению к выборам, в отличие от Чечни, Дагестана, Кемеровской области, которые действуют по султанатским образцам. Как султан сказал, так они и проголосовали. Это две разнонаправленные культуры, поэтому чем дальше мы движемся, тем больше внутренний конфликт нарастает. Естественно, мы его не видим, потому что сверху все это замазано пропагандой, говорящей о том, что мы — новая историческая общность: российский народ. Но внутри нее накапливаются противоречия.
Консервативны ли мы? Здесь необходимо сказать несколько умных слов. Мы, те, кто пытается отрефлексировать себя, — в том числе социокультурная наука, политологическая наука, этнографическая — переживаем некоторый внутренний кризис, который формулируется как переход от примордиальной идентичности к конструктивистской. Примордиальная идентичность по сути означает, что если человек родился условным «москалем» или «хохлом», то этим обусловлены все его качества, включая склонность к модернизации или неприятие ее. Так мыслили в XIX веке: если человек родился в Африке, скорее всего, он не станет Эйнштейном. Сейчас все изменилось, и мы видим, как чернокожий может стать президентом Соединенных Штатов.
То же самое происходит у нас — примордиализм кончается, начинается конструктивизм. Это значит, что мы очень сильно зависим от элит. Они конструируют то общество, в котором мы живем. Нам-то кажется, что это не так, но на самом деле — именно так. Мы как центр — вполне европейская страна и готовы к переменам. Но власть эксплуатирует ископаемые методы конструктивизма, реконструируя советскую ментальность, которая к переменам не готова, она ностальгирует по прошлому, ждет товарища Сталина, который придет и наведет порядок, проведет коллективизацию, индустриализацию, совершит очередной прорыв. Прорыв, которого на самом деле не было, который был нарисован, в чем я убедился на фактическом материале. Когда началась война, Советский Союз встретил врага той самой частью тела, которой ежей пугают. Страна очень мужественно этим местом оборонялась, надо отдать должное, но СССР был к войне катастрофически не готов и настраивался по ходу дела. Все эти байки по поводу индустриализации при помощи сильной руки — фейк. Конечно, был ДнепроГЭС, который построили в 1935-1939 годах, были сталь и чугун, но стрелять было не из чего.
Проблема нашей модернизации, перестройки заключается в том, что это всегда делается от плохой жизни. От хорошей жизни никто не модернизируется, не делает никаких реформ. Только когда все упирается рогом, начинаются катастрофические перемены, которые далеко не всегда бывают к лучшему. А вот в США есть конкуренция, вынуждающая каждого конкретного бизнесмена индивидуально модернизироваться, делать эти самые реформы на своем маленьком уровне. Если он ошибся, разорился, ничего страшного со страной не происходит. Если же мы ошиблись с модернизацией, которая идет сверху и вертикально, то плачет вся страна. Мы — как люди, как нация, как народ — готовы к переменам, и, наверное, их хотим. А власть их не хочет и боится, хотя рассказывает о внедрении научно-технического прогресса.
Рубинштейн:
Мне слово «консерватизм» применительно к всевозможным общественным процессам кажется не совсем уместным, так как оно предполагает консервацию чего бы то ни было. Все наши граждане, называющие себя консерваторами, как правило, не могут ответить на вопрос, что именно они собираются консервировать. Те, которые говорят о традициях, никогда не скажут вам, в чем эти традиции заключаются — кроме традиции рвать ноздри или пороть на площадях. У нас в культуре существует традиция время от времени пересматривать определенные традиции.
Конечно, российское общество в целом традиционалистское, но это лишь свидетельствует о серьезном отставании от остального мира. В наше время есть простые критерии, лакмусовые бумажки: возможен, скажем, гей-парад или нет. В Тель-Авиве, где живут очень религиозные люди, он возможен, в Москве — нет. В Киеве совсем недавно он тоже был возможен, хотя и подвергался нападениям ребят с традиционалистскими взглядами. Это не консерватизм, это самое обыкновенное мракобесие — слово, которое в гораздо большей степени описывает нашу ситуацию.
Что касается готовности к переменам, то общество просто-напросто расколото. Часть его не только готова, но и жаждет, а другая не приемлет их, потому что ей страшно. Много поколений советских, а также постсоветских людей выросли с ощущением «как бы не было хуже». Я прекрасно помню, как рассуждало поколение моих родителей, на головы которых выпала война. Они говорили: «Только бы не было войны, мы потерпим, ничего страшного».
Я очень хорошо помню послесталинское время. Мои подростковые школьные годы пришлись на хрущевскую эпоху. Там не то что перемены, там вся официальная риторика была направлена на будущее. Более того, в каком-то смысле было запрещено прошлое, очень плохо преподавали историю. У моего старшего брата в 1956 году отменили выпускной экзамен по этому предмету. Потому что старая история кончилась, а новой еще не было.
Мы бесконечно говорили о будущем. Никто не знал, что было 20 лет назад, но все знали, что будет через 20 лет — коммунизм. Люди обсуждали, какой он будет. Напомню один из основных принципов коммунизма: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Обыватель считал, что коммунизм — это когда все будет бесплатно. Появлялись гениальные анекдоты: приходит человек куда-то, чтобы что-то получить по потребностям, а на дверях магазина висит объявление — «Сегодня потребности в масле нет».
Что мы видим сейчас? Ровно обратная ситуация. Заметьте, что в официальной и околоофициальной риторике будущего нет. Это настолько очевидно, что мне даже недавно приснился сон, будто я читаю в газете или ленте новостей о принятии закона, в соответствии с которым запрещено употребление глаголов будущего времени.
Гозман:
В разных странах проводилось забавное исследование — детей просили нарисовать родину. Во всех случаях она получалась более архаичной, чем сама страна на данный момент. Рисовали деревню, березки (если в России), корову возле дома. Причем, это рисует ребенок, видевший корову исключительно в виде гамбургера, ведь все давно живут в городах, да и в деревне она стоит на ферме, где ее особо не видно. У нас этот диссонанс прослеживался особенно ярко. Современное наступление архаики — это что? Так происходит у всех в тяжелый период истории? И, самое главное, этот архаический ренессанс — он только на поверхности, в телевизоре, или он действительно захватил сознание людей?
Рубинштейн:
В нашей риторике, в картине мира нет категории будущего. А если нет будущего, то настоящее тоже размыто. В этой ситуации, конечно, приходится идеализировать прошлое. У нас в качестве архаического фетиша выбрали войну, которая была больше 70 лет тому назад, и даже не ее, а несколько ее последних дней, ведь речь идет конкретно о победе. Цена ее вынесена за скобки, особенно первые два года войны. Вся война сегодня уместилась в Рейхстаг с красным флагом на нем. Когда говорят «можем повторить», имеют в виду только это, все остальное мы повторять не готовы и не хотим. Поэтому под Москвой строится муляж Рейхстага, и какие-то придурки его штурмуют, этот макет.
Архаика вообще, как мне кажется, свойственна массе любого народа. Большинство населения земного шара настроено архаично, просто потому что всякий модерн — удел меньшинства, и так было всегда. Просто в каких-то случаях общество свою склонность к архаике засовывает куда подальше, например, потому что властные элиты настроены в модернистском духе. Чисто риторически так были настроены большевики. Они пользовались марксистской риторикой, говорили о будущем, о семье народов, о братстве пролетариев всех стран. Население при этом было очень архаично, но свою архаичность держали при себе и помалкивали. Сейчас население может говорить о своих архаичных взглядах смело — более того, такой образ мышления является мейнстримом. В этом нет ничего страшного, главное, чтобы люди, настроенные модернистски, сами не сползали к этой архаике.
Орешкин:
Я думаю, что это опять надо обсуждать в терминах конструктивизма. , философ лубянской школы, говорит, что сила российского народа и государства заключается в приверженности какой-то идее. Именно поэтому ее все время формулируют и никак не могут сформулировать. Соответственно, нынешний режим он называет идеократичным, а значит правильным — исходящим из какой-то идеи. Не важно, русская монархическая эта идея, или марксистская, или гитлеровская идеократия, основанная на идее великого германского народа, или иранская. Есть ряд государств, у которых нет национальной идеи. Какая идея сегодня у Бельгии, Швеции, Британии, Франции, да и Германии тоже? Я даже скажу страшное — по-моему, ее нет даже у США. Ничего, живут.
Эту идею формируют интеллектуалы, ее носители, и именно поэтому они знают, что есть истина, а что — нет. У это так называемая «геополитическая администрация», исходящая из геополитических интересов и потому знающая, что именно этому народу надо. Она формирует идею, она ставит задачи и она же решает, достигнуты эти цели и задачи, или нет. Получается такая самозамкнутая идея. Именно поэтому демократия катастрофически опасна для такой концепции. Она просто разрушает изнутри русскую идентичность.
В советские времена народ действительно жил будущим, а прошлого не было. Сейчас постсоветский народ живет в светлом прошлом. В отличие от американцев, он не живет в настоящем. Ему все время рисовали идеи светлого будущего, а когда оно не наступило, стали рисовать идею светлого прошлого. Мне кажется, это достаточно осознанная политика, связанная с конструированием идентичностей, идущая сверху.
Любому человеку приятно думать, что он принадлежит к великой нации, общности, к сожалению, (и особенно в нашей стране) сильно мифологизированной. Причем повсеместно, начиная от , которого никто не знал лично, но все видели замечательное кино. И заканчивая полководческими талантами наших военачальников времен Великой Отечественной.
Мы хотим величественного прошлого — и там есть о чем поговорить и порассуждать. О победе, об образе товарища Сталина в белом кителе, очень востребованном сейчас. Нам его очень аккуратно сейчас возвращают, рассказывая, что при нем как раз была и модернизация, и все 33 удовольствия — и все благодаря его сильной руке. Это, конечно, является сказкой, которую он построил в рамках своей собственной идеократии, конструируя новую реальность.
Это не мы такие — хотя может быть думаем, что мы именно такие. На самом деле мы просто улавливаем из информационного фона важные для нас вещи, которые туда вкладывают умные люди, сочиняющие гимны и хорошие фильмы про 17 мгновений. Многие смотрят их и воспринимают как историческую реальность. Этот героический эпос из прошлого становится все важнее, все востребованнее и актуальнее. На самом деле, это очень опасно, поскольку мы деградируем к двумерной картинке мира: мы великие и могучие, кругом враги и мы их побеждаем. Но такая бинарная логика «мы — не они» хороша во время войны, когда есть линия фронта и понятно, кто враг.
В мирное время нужны более сложные представления, но нас осознанно подводят к этой ситуации, говоря, что у нас хотят украсть нашу идентичность. Тот же говорит, что мы живем в условиях эпистемологической агрессии Запада, то есть, разрушающей нашу идентичность. То есть, Россия должна быть иррациональна, она прерывает вот этот западный рационализм, который нам исторически чужд. так говорит исходя из того, что понимает душу России лучше, чем все остальные. объясняет, что нам чуждо, а что нет. Откуда это знает — непонятно, но в этом совершенно искренне уверен и считает себя вправе говорить от имени русского народа.
Так вот, насколько же мы консервативны? Консерватизм является рациональным понятием, а вера в великого мудрого Сталина — иррациональна. Я с симпатией отношусь к разумному консерватизму, основанному на рациональном анализе прошлого, и меня пугает иррациональная вера, говорящая о том, что мы всегда были могучими, свободолюбивыми и вели освободительные войны, в то время как на нас постоянно нападали, и поэтому нам надо опять сплотиться и, как уже было сказано, «повторить». Такая логика ведет нас к катастрофе.